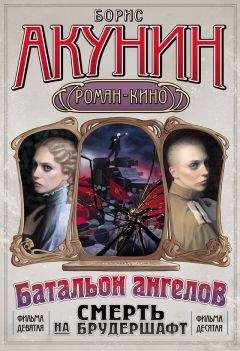Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]
Он перешел сразу к делу.
— Один вопросик, мадам. Маленький. Когда отбывает Старик? То есть, мне известно, что завтра. Но откуда именно? И, главное, во сколько?
А она вместо ответа:
— Что вы такое про материнское сердце сказали?
— Про сердце после. Это, может, вовсе и не понадобится. Так я вопросец задал.
Она руки на груди сложила, подбородок вверх.
— Или стреляйте, или убирайтесь. Вон отсюда!
Значит, понадобится. Охо-хо, грехи наши тяжкие…
Тем временем в сквереС гулянием сегодня повезло. Карл думал, опять придется сучком на земле баррикадный бой рисовать, а потом затирать, чтоб герр Ланге, садовник, не ругался. Но студент, что читал книжку, вступил в разговор.
— Ты что это рисуешь?
По-немецки он говорил с акцентом. Оказался поляк, из Кракова. Почти земляк.
Много интересных штук показал. Например, надвинул кепи себе на самые глаза, раскрыл перочинный ножик и вслепую стал кидать в дерево. Что ни бросит — торчком. Здорово!
Карл ему сначала просто ножик подносил, потом попросил научить.
Ян (так студента звали) положил ему руку на плечо, занес ножик и стал показывать правильный замах.
В мансардеТеперь бабенка вскрикнула погромче, чем возле двери.
— Карл!
Иван Варламович ей ладонью рот прикрыл.
— Тссс! Потише, милая. Что орать-то, соседей тревожить? Подумаешь — Карлуша товарища сыскал. Пускай в ножики поиграют. Про Дмитрия-царевича помнишь? Вот и он так же забавлялся.
Любил Иван Варламович в спокойный вечерок из русской истории что-нибудь почитать. Про царевича Дмитрия, отрока невинно убиенного, очень к месту вспомнилось. Культурно. А на «ты» Иван Варламович с Воблой нарочно перешел. Дожимать ее пора было. Без четверти пять уже.
— Не трясись ты, дура. Это мой приятель, очень хороший человек. Не станет он твоего сынулю резать. У Люпуса (звать его так) руки исключительной силы. Вот так положит на затылочек. — Он взял Воблу пальцами сзади за шею и сжал. — Этак вот повернет, и позвонки — хрясть. Много ли ребенку надо? Шейка-то цыплячья. А резать — нет, резать не станет.
— Мерзавцы! — захрипела она. — Подлецы!
— Э-э нет, товарищ Волжанка. — Иван Варламович посуровел. — Ты нас в подлецы не записывай. Деточек Столыпина, Петра Аркадьича, ваши взорвали — не пожалели?
— Это сделали анархисты!
— Брось. Вы, большевики, пострашней анархистов… — Теперь следовало мягкости подпустить и снова на «вы» перейти. — Так я насчет материнского сердца интересуюсь. Ежели вы несгибаемость проявите и собственное дитя погубите, знаете кто вы после этого? Чудовище и гадина последняя. Ехидна, что собственных детенышей пожирает.
Кто такое «ехидна» и питается ли она своим потомством, Иван Варламович доподлинно не ведал, но его несло вдохновение.
— Мне ведь, кошки-матрешки, довольно платочком махнуть. — Он достал стираный-перестиранный платок. — И отлетит душонка к ангелам. Как решать будем?
— Я не знаю, во сколько прибудет Старик… Честное слово, не знаю!
У Ивана Варламовича прямо от сердца отлегло. Раз голос задрожал и в глазах слезы, всё устроится.
— Конечно, не знаешь. Кто ж тебе, дуре, такой секрет доверит. Конспирация! Но вот любовничек твой у Грача в помощниках. Он непременно знает. Ты к нему подластись по-бабьи, разнежь его, да и выспроси.
— …Хорошо. Попробую. А после вам скажу. Только отпустите сына!
Засмеялся тут Иван Варламович. Нашла простака!
— Не-е, золотце. Мне уходить уже поздно. Не приведи Господь, столкнусь на лестнице с твоим хахалем. Ну, как он меня соперником сочтет? Боюсь я его, он мужчина строгий. Я вот… — Поглядел туда-сюда. — Я в чуланчик спрячусь, как и положено сопернику. В тесноте да не в обиде. И послушаю. Заодно, уж не стесняйся, буду в щелочку подглядывать. Не из похабного интереса, не подумай. Но ежели примечу, что ты ему какие знаки подаешь, пеняй на себя. Мало того что обоих на месте положу, но и сынишка твой жить не будет. Люпус — мужчина обидчивый. Так что? Десять минут всего остается. Решай.
— Всё сделаю… — Она дрожала. — Как холодно… Форточку закрою.
Это она не из-за форточки к окну подошла — сердце материнское погнало еще раз на сына посмотреть. Пускай.
Николай Константинович рядом с парнишкой на корточках сидел — ножик в землю кидали. Очень кстати. Будто услышал про царевича.
— Это вас не от холода, от нервов колотит. Ничего, всё обойдется. Только уж вы, Антонина Васильевна, дуру не сваляйте. Три жизни в руках держите.
В ЩЕЛОЧКУНа что уж тесна была кладовка, примыкавшая к спальне, но и тут домовитый Иван Варламович сумел устроиться с комфортом. Снял с верхней полки ватное одеяло, под него пристроил ящик с инструментами — получилось мягчайшее сиденье. Помазал под носом одеколончиком: и ароматно, и не расчихаешься от пыли. Щелку наладил и закрепил, чтоб дверца не скрипнула.
А тут и гость дорогой пожаловал.
Вобла, как велено, открывать в прихожую не пошла, а крикнула прямо из комнаты: «Не заперто!». Удаляться из поля зрения ей было строго-настрого воспрещено. Зачудила бы — Иван Варламович пустил бы в ход пистолет, колебаться б не стал. С Теофельсом шутки плохи. Пальнет через дверцу, и никакого тебе домика в Калуге.
Но баба вела себя смирно. Матери — они такие.
Поздоровкались революционные любовники за руку, будто собирались в переговоры вступать. Вот уроды!
Актерка из Воблы была плохая, но за это человека осуждать нельзя. На вопросы любовника отвечала коротко. Когда он усадил ее на кровать, начал целовать и платье расстегивать, отодвинулась.
Теофельс, конечно, спросил:
— Что с вами? Вы сегодня будто деревянная.
Надо же, на «вы» у них. Жеманно.
Шевелись ты, кукла, не строй из себя снежную бабу! О сынке подумай!
Зашевелилась.
— Да, я сегодня сама не своя… Не обращайте внимания.
Расстегнула пуговицы, сняла платье через голову. Плечи у нее, между прочим, были ничего себе — круглые, белые. Спереди только мелковато, на вкус Ивана Варламовича.
Откинулась на спину. Пришлось кавалеру самому с нее чулки снимать. Он чего-то там гладил, нацеловывал. Не торопился, в общем. Разогреть ее хотел.
За его спиною ничего интересного видно не было, и отвлекся немного Иван Варламович. Полезли в голову мысли посторонние, неуместные.
Стал он думать про женское. Эх, кошки-матрешки, обделила его в этом отношении судьба. Семьи вот нет, да и постельное, что было — чепуха одна, вспомнить нечего. Одни лярвы копеечные.
Повстречать бы хорошую женщину — вдовую, но еще в соку. Чтоб была жизнью кусанная, но не сломанная. В мужчинах разочарованная, однако же не перегоревшая. Тогда и сочетаться можно. Не всё ж с Марьей Васильевной лясы точить, да и помрет она поди скоро, кошачий век короток…
— Нет, что-то не так, — сказал Теофельс распрямляясь. — Ну-ка рассказывайте.
Иван Варламович пустые думы отогнал, напрягся, предохранитель с пистолета снял.
— Страшно… — ответила она и села.
— Что страшно?
— Всё. Жизнь… Люди… Будущее. Что нас ждет на Родине?
Теофельс смотрел на нее, не шевелился.
— Скоро узнаем.
— Нервы не выдерживают! Грач вчера сказал, что уезжаем завтра в полночь. Сегодня говорит: скорее всего завтра, но во сколько, неизвестно. Так уезжаем или нет?
Иван Варламович одобрительно кивнул: так-так.
— Вы извините… — И голос у нее плаксивый, искренний. Умничка. — Извините, что раскисла… Но я с вами не могу твердость изображать… Вы на меня плохо действуете…
Теофельс ей, хмыкнув:
— Это физиология, товарищ Волжанка. В постели твердым может быть только мужчина.
Смешно сказал немчура. Иван Варламович оценил.
Вобле-то сейчас было не до смеху. Она гнула свою линию, сражалась за спасение дитяти.
— …Начала вещи собирать — всё из рук валится. Скажите, вы ведь знаете, мы точно завтра уезжаем?
— Точно.
— А во сколько?
Этот помолчал немножко. Но как не уважить милую подругу?
— В восемь. Сами понимаете, это строго между нами. Грач, я и теперь вы — больше никто не знает. Не считая Старика, конечно. Его из дома прямо к поезду доставят, минута в минуту.
Перед тем, как в чуланчик спрятаться, Иван Варламович товарищу Вобле еще одно задание дал: вытянуть у хахаля, куда они своего вождя перевезли. Обещал ее за это кое-чем наградить.
Поэтому Вобла от Теофельса не отстала.
— А где Старик? Откуда его привезут?
— Грач переправил его с Шпигельгассе, из старой квартиры, на Кульманштрассе, подальше от людных кварталов.
Номер дома выпытай, золотая-серебряная! Кульманштрассе — она длинная!
Вобла спросила:
— Но там ведь буржуазия живет, сплошь одни особняки.
— Это ближе к центру. А мы сняли квартирку подальше, в четырехэтажном доме, сером таком. На автомобиле до вокзала не больше десяти минут. Вот без десяти Старика и отправят.
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов]](/uploads/posts/books/165373/165373.jpg)